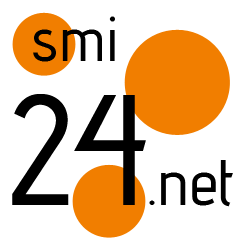Коммуна: реальный опыт колонии, созданной по принципам коммунизма
На это у коммунистов есть три стандартных ответа:
1. «Почему мы вообще должны работать, если у нас всё отобрали в 1992 году. Отмените приватизацию, верните народу заводы, вот тогда мы поработаем».
2. «Одиночная коммуна нежизнеспособна, чтобы коммунизм работал, нужно сначала захватить власть в стране, запретить всех капиталистов. Или, лучше, захватить власть во всём мире, чтобы зарубежные капиталисты не соблазняли социалистических тружеников красивой и сытой жизнью».
3. «Коммуну-то открыть несложно, но буржуи ей работать не дадут — навалятся всем кагалом и задавят».
Понятно, что реальная причина, по которой современные коммунисты не торопятся жить по-коммунистически, другая. Коммунизм для них — это вообще не про работу, это про ненависть к богатым и про бесплатные квартиры от государства.
А вот в 19-м веке было иначе. Тогда среди социалистов было много идейных людей, которые искренне хотели изменить мир к лучшему, принести пользу обществу. Некоторые из них становились опасными фанатиками, не жалея своей и чужой крови разрушали «неправильное» государство. Другие, — более умные и порядочные, — пытались реализовать свои инфантильные теории на практике. Они действительно собирались в коммуны, чтобы жить там по-коммунистически — то есть как ранние христиане, только без христианства.
Такие коммуны неизменно проваливались, иллюстрируя своими провалами ошибочность всей социалистической идеи в целом. Однако проваливались они не из-за своего маленького размера и уж тем более не из-за давления встревоженной буржуазии, которой на практике коммуны были скорее смешны. Причины провалов были более прозаичны.
Цитирую фрагмент из воспоминаний Василия Маклакова, адвоката, члена дореволюционной Государственной думы. Для лентяев — читайте последние два абзаца фрагмента, в них итог:
http://rusliberal.ru/books/MAKLAKOV_Iz_vospominanij_pdf.pdf
Новоселов для этого дела собирался устроить колонию; он приобрел землю в Тверской губернии, Вышневолоцкого уезда, на берегу прекрасного озера. На этой земле и должна была жить пробная колония единомышленников; при земле был сосновый лес, который он подарил крестьянам соседней деревни. Колонии пока еще не было, но Новоселов так увлек меня своей преданностью этой идее, что я принял его приглашение поехать к нему, пока он там один, и провести с ним несколько времени. И поехал я не один, а с нашим общим другом и товарищем по естественному факультету, сыном профессора органической химии, Марковниковым, который позднее стал моим коллегой по 3-й Государственной думе.
Мы там прожили около месяца. Временно, пока колонии еще не было, были у Новоселова двое «рабочих»: старик сторож с женой, которая была кухаркой. Они жили в особом строении-кухне, куда мы трое ходили обедать, за общим с ними столом, и ели все из одной общей чашки. Сами же жили в главном доме, обходились без всякой прислуги, спали на полу, на сене. Кроме того, исполняли полевые работы, изредка с помощью сторожа или даже наемных рабочих. Довели свои личные потребности до возможного минимума, даже не пили чаю; я в это лето бросил курить. Мне и тогда было ясно, что в современных условиях жизни и техники, при разделении труда, жить исключительно своим трудом невозможно. Для этого надо бы уехать на необитаемый остров. Но у Новоселова оставались в резерве другие доводы за колонию.
Правильность и жизненность поставленной цели он измерял качеством действий, которые она требовала от человека, удовлетворением, которое эта деятельность давала ему.
Посмотри, — говаривал он, — мы исполняем трудную работу, но нам радостно понимать, что она нужна и полезна; мы ведь видим ее результаты немедленно: скосили луг, убрали сено, вспахали и засеяли пашню и т. д. Это всем ясно. И явная польза от этой работы мирит нас с трудом и усталостью. Ну, а в чем проходит работа революционных политических партий? На что уходит их время? Печатать прокламации, распространять запрещенную литературу, натравливать одних на других, прятаться от полиции, лгать на допросах… День проходит за днем в этих унижающих достоинство человека занятиях, а осязательных результатов от этой деятельности не видит никто… Они далеко впереди, да еще и очень сомнительны.
Зимой, когда уже образовалась колония, я еще раз ненадолго приехал туда. Кроме Новоселова, были там Ф. А. Козлов, д-р Рахманов, А. В. Алехин, скромный лаборант химической лаборатории, всегда покорно и молча работавший в ней, вдруг как бы сразу понявший, что все это дело — «не то», бросивший лабораторию и поступивший в колонию. Он был младшим братом известного общественного деятеля Аркадия Алехина, бывшего, кажется, курским или воронежским городским головой. Когда в 1906 году шла избирательная кампания в 1-ю Думу, и я ездил по России агитировать за кадетскую партию, я там встретился с ним.
В колонии были еще две подруги, окончившие Высшие женские курсы, В. Павлова и М. Черняева. Ее брат стал позднее моим лучшим другом. Но это другая эпоха, и о нем я скажу несколько слов в другом месте. Самым глубоким человеком в этой колонии был Ф. А. Козлов, задумчивый и молчаливый, напоминавший если не лицом, то головою Сократа; у него была своя собственная теория. Никакого справедливого общества, думал он, не может существовать, пока люди не будут иметь добрых чувств друг к другу. Поэтому нужно думать только о том, как эти чувства в людях воспитывать и развивать. Все остальное приложится. А добрые чувства слагаются из сострадания к чужому несчастью, естественного желания помогать, как естественен порыв поднять упавшего на улице человека, и из гораздо более сложного и трудного чувства сорадования, то есть радости от чужого счастья, противоположного более естественной «зависти». Потому и должно начать с того, что легче, то есть в себе развивать сострадание. Для этого нужно жить в той среде, где люди страдают не от случайностей вроде «болезней», не от капризов и требовательности, а от несправедливости мира, который их заставляет делать то, что им лично не нужно, но для пользы других. В этих условиях живет наше «крестьянство», труд которого кормит Россию; эти условия и воспитали в крестьянстве подлинные «христианские чувства».
Те, кого мы тогда в общежитии называли толстовцами, были часто совсем не схожи друг с другом. Общее у всех было одно. Преобладание у всех моральной точки зрения, которая определяла их вкусы, взгляды и жизнь. Из-за этого к ним причисляли Л. Н. Мореса, который в это время, как и я, приехал в колонию их навестить, не состоя ее членом. Толстовцы с ним очень дружили, как со своим человеком; но у него не было ничего общего с ними, кроме повышенного «морального чувства». Он был типичный интеллигент, кабинетный ученый, по наружному виду и образу жизни аскет, с лицом отшельника или подвижника, смотревший на всех через очки серьезными, грустными глазами. Он казался всегда несчастным, полуголодным и утомленным.
<…>
Но возвращаюсь к самой колонии. Я прожил в ней очень недолго и вернулся в Москву «очарованный». Иллюзии, будто они дали пример, за которым весь мир постепенно последует, у меня не было; но я видел, что то, чего жаждали эти люди, то есть найти такой образ жизни, который удовлетворял бы их «совесть», ими был действительно найден. Они все были счастливы этим. Тогда была зима, свобода от страдных сельских работ, но труда по домашнему хозяйству хватало на всех. Были заняты все, ничем не гнушаясь. Бывшие «курсистки» готовили пищу, стирали наше белье, шили и штопали. Доктора и ученые чистили выгребные ямы. Сам тщедушный Морес что-то мастерил, хотя и я, и он, как гости, были на особом положении. Все это делалось с радостью и убеждением, что за то зло, которое господствует в мире, они более не «ответственны»; то, что лично они могли сделать, чтобы в нем не участвовать, они теперь сделали. Все это было предметом горячих бесед, которые велись в колонии вечером.
Была общая атмосфера какого-то всеобъемлющего «медового месяца» наступившего счастья. И это было не только мое мимолетное впечатление. Оно подверглось своеобразной проверке. Узнав от меня о колонии, моя мачеха была не прочь посмотреть ее своими глазами. Случай представился; ближайшим летом она гостила у знакомых в Тверской губернии, недалеко от колонии. Она и решилась без приглашения и предупреждения поехать туда вместе с вдовой композитора Серова, известной тогда общественной деятельницей, и Л. Е. Воронцовой, большим другом мачехи, которая тогда была очень «лево» настроена. Они там пробыли не более суток, но, по словам мачехи, были покорены тем, что увидели. Мачеха повторяла, что увидела там тургеневское «Лазурное царство». Такой подход к колонии был чужд для меня, но все же сходился с моим впечатлением.
<…>
Новоселов был вообще «энтузиаст». Приблизительно через несколько месяцев после этого он прислал мне другое письмо. В одной из подобных колоний, кажется, в Смоленской губернии, полиция сделала обыск и увезла с собой много бумаг. В этом ничего особенного, ни тем более радостного не было. Это была очень обычная «реакция» власти на то, чего она понять не могла. Но Новоселов был в полном восторге: «Начинается». «Власть поняла, откуда ей грозит настоящая опасность. Эти маленькие искры соединятся скоро в общий костер и т. д.»
Конец новоселовской колонии был очень трагичен, но пришел не оттуда, откуда его ожидали. Он показал, что как ни старались толстовцы развивать в себе и в людях добрые чувства, это не всегда удается. Иллюзии колонистов были разбиты действительностью. Через немного времени, я уже не помню точно, когда именно, окружающая колонию крестьянская среда сделала из ее существования совсем не те выводы, на которые рассчитывали члены колонии. Узнав, что соседние «господа» очень добрые и даже советуют «злу не противиться», двое из соседней деревни пришли и для «пробы» увели лошадь только на том основании, что она самим им нужна. В колонии велись переговоры: как на этот факт реагировать? Можно ли обратиться к властям? Было, конечно, решено на этот путь не вступать, но послать одного из своих, чтобы усовестить крестьян и отдать похитителей на суд самой деревни.
На другой день к ним пришла вся деревня; колония торжествовала, думая, что в них совесть заговорила. Но они ошиблись: крестьяне пришли взять и унести с собой все, что у них еще оставалось. Я там сам не был, а о подробностях они не любили рассказывать, но после этого оставаться в колонии никто не хотел; все оттуда уехали, а имение было куплено кем-то в личную собственность. Сам Новоселов скоро принял «священство», стал миссионером и в последний перед революцией год в специальной духовной печати обличал Распутина.
Господин Маклаков пишет, что конец новоселовской колонии был очень трагичен, однако мне кажется, что ничего трагичного там не было — группа исследователей поставила важный эксперимент, и результаты эксперимента вынудили участников повзрослеть, более трезво взглянуть на реальную жизнь.
Более трагичен был не закономерный провал колонии, а судьба самого Новоселова. Так как он был священником, причём принципиальным, при Советах его несколько арестовывали, он провёл много лет в заключении. В 1938 году Новоселова расстреляли: якобы за подготовку бунта в Вологодской тюрьме.