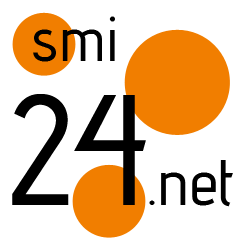Диалог о зле, Творце и теологии процесса
Михаил Эпштейн отвечает на вопросы Ольги Бугославской.
Философ, культуролог и литературовед Михаил Эпштейн разработал богословскую концепцию бедной веры. Она изложена в 95 тезисах в продолжение традиции, заложенной реформатором христианской церкви Мартином Лютером. Бедной вере посвящена также монография Михаила Эпштейна – «Религия после атеизма. Новые возможности теологии», опубликованная в 2013 году и широко обсуждаемая до сих пор. Определение бедной веры можно найти в первом тезисе: «Бедная вера – это вера без религии, без храма, догм и обрядов. Это прямая обращенность к Богу, здесь и сейчас, один на один. Это вера, столь же и цельно предстоящая Богу, как целен и неделим сам Бог». Бедная вера объединяет верующих людей, которые не ассоциируют себя ни с одной из существующих конфессий. Мы побеседовали с Михаилом Эпштейном об особенностях бедной веры и природе веры вообще, о причинах зла и теодицее, об этике и проклятых вопросах «кто виноват?» и «что делать?».
Ольга Бугославская – филолог, литературный критик, постоянный автор журналов «Знамя», «Дружба народов», «Волга», а также электронных изданий «Лиterraтура», «Формаслов», «Артикуляция» и других.
– Михаил Наумович, позвольте начать с вопроса о том, что такое вера и связана ли она с мистическим опытом?
– «Вера» – неточное слово, оно указывает на нечто внешнее. Можно верить в силу рынка, в успехи медицины... «Верить в Бога» – скучное выражение, оно не передает того праздничного чувства, которое испытывает «верующий», переживая свою таинственную связь с Творцом. Это внутренняя связь персонажа со своим Автором, опыт сопереживания ему и участия в его творении. Человек создан по образу и подобию Бога, значит, он – метафора, воплощение определенного замысла. Ты не сам себя создал, но появился неведомо откуда, из-за кулис, и уйдешь неведомо куда. Ты – персонаж произведения размером во вселенную, где у тебя в пределах заданных обстоятельств есть большая степень свободы.
Что делать, как найти свой путь? Ты работаешь вместе с автором, он тебя приобщает к своему замыслу и посылает тебе знаки, какая роль тебе поручена. Это называется «дарованием». Ты чувствуешь, к чему у тебя наклонности, знаешь, что тебе удаётся лучше, а иногда – лучше, чем другим. И в этой роли, пожалуйста, делай всё для себя возможное. «Я люблю твой замысел упрямый / И играть согласен эту роль» (Б. Пастернак). Тебе послана некая энергия и поле для её реализации, вот и делай со своими дарами, что можешь. Назвать это верой даже язык не поворачивается, хотя других легко опознаваемых слов нет. Может быть, симфония, синергия творения и Творца.
– Здесь перед нами возникает проблема, сопряжённая с тем, что талантливые люди существуют во всех областях человеческой деятельности. Помните перестроечный фильм «Криминальный талант» о талантливой мошеннице? Бывают талантливые и успешные воры, манипуляторы, корыстные лжецы... Слово «талант», имеющее положительную коннотацию, вряд ли подходит в данном случае, поэтому скажем так: есть люди, имеющие преступные и порочные склонности и способности.
– Кроме дара, есть еще один ориентир – совесть. Дар подсказывает, что нужно делать, а совесть, – чего не нужно. Такова гениальная конструкция нашего мира. Делай в предлагаемых обстоятельствах то, что можешь делать лучше всего, – и от чего не становится хуже другим. Дар и совесть – два сигнала, которые поступают нам оттуда, по внутренней связи. Вообще связь в этой удивительно устроенной системе между человеком и Творцом – в основном внутренняя, как в самых надежных системах управления. Закрытая, сугубо персональная связь. Никто не подслушает, не подсмотрит. Правда, иногда и внешняя связь действует: всякие случаи, происшествия, порой даже чудеса, которые подсказывают, как нужно поступить. Сделаешь неверный шаг – споткнешься. Но это дополнительный способ, а главное: «верь тому, что сердце скажет; нет залогов от небес...» (В. Жуковский).
– С этим связан и ещё один момент. Часто негативные или даже катастрофические явления и события, кроме отрицательных последствий, имеют последствия положительные. Классический пример – эпидемия чумы в средневековой Европе. Во всех учебниках истории сказано, что это была страшная беда и люди натерпелись ужасных страданий, но, тем не менее, опыт переживания и преодоления Чёрной смерти дал дополнительный импульс развитию ренессансных, гуманистических идей, подтолкнул европейские общества к развитию в разных направлениях. Другой пример: многие считают, что такое свойство человеческой натуры, как агрессивность, склонность к соперничеству, проистекающие из них конфликты, войны и прочее несут не только разрушительный заряд, но и созидательный тоже. То есть соперничество и война – один из способов развития. И если мы подавим в себе соревновательный дух, то тем самым остановим эту ветку развития, и Бог знает, какими мы в результате станем. Как можно посмотреть на эту двойственность с точки зрения бедной веры?
– В своей «Теодицее» (Богооправдании), первом произведении этого жанра, Лейбниц утверждает, что мы живем в лучшем из возможных миров, а зло служит увеличению добра или предотвращению еще большего зла. Например, война способствует развитию жертвенности, преодолению страха, любви к соотечественникам и т.д. Я не разделяю эту сверхоптимистическую точку зрения, и ее знаменитая критика в «Кандиде» Вольтера вполне оправданна. Я бы сказал, что мы живем в наиболее интересном, наиболее событийном из возможных миров. А событие – это всегда нарушение границы. Если бы не было границ между добром и злом, между высоким и низким, между духовным и материальным, то не было бы и событий, было бы только статичное состояние мира без развития. А мы живем в мире гораздо более сюжетнонапряженном, с множеством захватывающих коллизий. Тут и триллер, и хоррор, и саспенс...
У Лейбница – представление о Боге как вечном и неизменном Творце и о мире как совершенном творении. Таково классическое определение Бога: всеблагого, всезнающего и всемогущего творца мира. Но если Господь всесилен и всеблаг, то как быть со злом и несправедливостью в мире? Если Господь всеведущ и знает все наперед, то как быть со свободой человеческой воли?
Мне ближе теология процесса, представляющая Бога не только источником, но и соучастником миротворения. Мир весь в строительных лесах, он не завершен. Бог не всесилен, ибо Он есть само усилие, которое продолжает творить мир и находит в нас свое продолжение и подмогу. «Всё» – это не данность, а задание, бесконечность стремления. И точно так же Бог не всеблаг, но стремится к наибольшему благу, – стремится через нас, через нашу волю к добру, каким бы злом оно ни оборачивалось в мире. Сказано: «...да будет Бог всё во всём» (1 Кор. 15:28). Это означает, что Он еще не во всём, что Он – и мы вместе с ним – на пути к этому Всему.
В страшном напряжении совершается этот путь. Существование зла в мире теология обычно объясняет свободой человека, отпавшего от Бога по своей воле. Но ведь в мире много и «естественного», космического зла, не сотворенного человеком, а составляющего условия его бытия: смерть, болезни, природные катаклизмы – землетрясения, ураганы, цунами. Весь этот мучительный беспорядок объясняется тем, что Бог еще продолжает творить мир, а значит – не быть всемогущим в нем, но быть его участником и в известном смысле его жертвой, явленной в одной из личностей Бога, в Иисусе Христе. Бог вступает в мир и страдает вместе с миром, как и подобает настоящему творцу. Если автор не сострадает своим персонажам, не переживает их боли, радости, отчаяния, – значит, это плохой писатель и мертворожденное сочинение. Кроме того, если творение продолжается, если оно еще не закончено, значит, и Творец меняется вместе с ним, как художник, создающий свою картину или книгу, раскрывает нечто новое в себе. И даже способен удивляться поступкам своих персонажей, начинающих жить вопреки его замыслу, логикой собственного развития. Пушкин воскликнул: «Какую штуку удрала со мной Татьяна!». Я не исключаю, что и Бог восклицает нечто подобное, глядя на пророков, мучеников, творцов, открывателей.
Нам хочется навязать Богу один жанр творения – идиллию. Чтобы люди никого не обманывали, всегда улыбались друг другу... Но идиллия – довольно посредственный и скучный жанр. Имя величайшего творца идиллий – Феокрит – не слишком известное. А в каком жанре подвизались величайшие авторы? Эсхил, Софокл, Шекспир, Гете, Шиллер, Достоевский? – Трагедия. Вот и Бог, как величайший из творцов, создает трагедию, которая разворачивается у нас на глазах и при нашем участии. Аристотель, раскрывая общие законы творчества в своей «Поэтике», говорит о трагедии, а не об идиллии, поскольку именно в трагедии выражены масштаб и динамика развития, которое не может обойтись без конфликтов и катастроф.
Поэтому мир, если он продолжает твориться, обречен быть трагедией, а нам в ней, конечно, стоит играть роль положительных персонажей. О войне и прочих зверствах и преступлениях можно сказать евангельскими словами, что соблазн должен прийти в мир, но горе тому, через кого придет соблазн. Почему должен прийти? Потому что бытие творится из небытия. И это ничто, дух пустоты и тьмы, все время проступает в основании бытия, прорывается в агрессии, злобе, в инстинкте уравнительства. Каждый чувствует частичку этого первозданного «ничто» в себе, так что на вопрос, «с кем протекли твои боренья?» уместно отвечать: «с самим собой, с самим собой» (переиначенный Пастернак).
– Разные люди в разной степени чувствуют свою связь с Абсолютом: одни чувствуют её всегда, другие – время от времени, третьи не чувствуют никогда. Исходя из этого, не стоит ли нам ограничиться всё-таки тем, что мы можем увидеть? Потому что как только мы допускаем, что за пределами видимого мира есть кто-то или что-то, некое иное пространство, то мы создаём абсолютно безграничный простор для любых фантазий и представлений в диапазоне от веры в Бога до веры в домовых, ведьм, колдунов и тому подобное. Как Вы думаете, вера во всё сверхъестественное вообще имеет один источник, или вера в Абсолют – это что-то одно, а вера в гадания, леших, болотниц, домовых и всё прочее – это что-то совсем другое? В тот момент, когда у нас стало ослабевать давление государственной идеологии, в нашей жизни параллельно возникли два явления: с одной стороны, открылась дверь в Церковь, а с другой – тут же появилась вся эта индустрия ворожбы, гаданий, приворотов-отворотов... Можно ли сказать, что это явления общего происхождения, но располагающиеся на разных этажах культуры?
– Думаю, что вера в Абсолют, в единого Бога и вера во всяких леших и русалок имеют общий источник. Человек сам – сверхъестественное существо, он не принадлежит только физической природе, поэтому он склонен верить в сверхъестественное. «Не стоит ли нам ограничиться всё-таки тем, что мы можем увидеть?» Как ограничиться? Разве можно увидеть совесть или вдохновение? Или даже поля и кванты? Или, тем более, темное вещество и темную энергию? Собственно человеческое – это и есть путь из невидимого в невидимое, путь, прокладываемый религией и этикой, искусством и наукой.
Между религией и техникой, с одной стороны, и магией с другой – огромная разница. Религия духовно освобождает человека от рабства материального мира; техника позволяет практически овладеть этим миром на основе его рационального познания. В этом смысл первой заповеди, данной Творцом человеку сразу после его сотворения: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над всеми другими природными творениями...
Магия же оставляет человека под властью духов природы, которые в ответ соглашаются выполнять некоторые его пожелания. Современный магизм – это опасная архаика, к которой тяготеет ментальность фашизма и евразийства. Никакое научное и техническое развитие на основе магизма невозможно.
– Как Вы думаете, не является ли страх смерти основным стимулом веры? Не он ли порождает в нас огромное желание самих себя обмануть, где-то понадёжнее спрятаться, утешиться? Не потому ли мы и строим миры вокруг себя, постоянно что-то домысливая?
– Так ведь откуда берётся страх смерти? Именно то в нас, что не умирает, – то и боится смерти. Этот страх – самое очевидное, ощутимое следствие того, что мы не принадлежим только этому миру, в нас есть нечто, что больше смерти. Нельзя объяснить веру страхом смерти, потому что страх смерти – это форма веры. Негативная форма, «от противного». Мы не знаем, что именно нас ждёт за пределом жизни, но мы чувствуем, что оно есть, и боимся туда не попасть или попасть не туда – в какой-нибудь ад, например.
– Можно ли сказать, что традиционные представления о рае и аде – это наивные представления?
– Существуют архетипы, образы коллективного бессознательного, и вообще весь этот условный мифологический язык (огонь, котлы), с которыми надо считаться. Но мы гораздо достовернее знаем, что такое рай и ад по собственному опыту. Рай – это состояние любви, творчества, вдохновения. И мы переживаем адские состояния, когда отчуждаемся от близких и чувствуем себя запертыми в своём одиночестве, во внутренней тюрьме.
Вообще об аде и рае говорят, как правило, в единственном числе. На всех грешников один ад и на всех праведников один рай. Но мне кажется, что раев и адов огромное число, столько же, сколько душ. И один и тот же человек проходит через них на протяжении своей жизни. Они близко располагаются друг к другу, хотя и принадлежат разным духовным пространствам. Вот один из тысяч примеров. Я еду на машине в университет, и слева от меня ад, а справа – рай. Слева рабочие прокладывают траншею для укладки труб. Жара под сорок, а они в плотных жилетах дробят пышущий жаром асфальт. А по правую сторону стоят за пышными деревьями зеленые дома с белыми занавесками, и кому-то там очень хорошо лежать в прохладе и слушать нежную музыку. А может быть, кто-то из-за этой занавески еще и подсматривает за работягами, тупо долбящими асфальт, и тогда рай становится еще больше раем, а ад – адом.
И так всегда: по какой бы дороге мы ни ехали, по одну сторону ад, по другую — рай. Этих раев и адов, райчиков и адиков много на земле, и даже в душе одного человека они чередуются. Иногда в ней кипит такая злоба, что, кажется, удавил бы все человечество, будь у него одна шея. А иногда в душе такая любовь, нежность, прозрачность, что хочется никогда не умирать. Так что уместно, не откладывая на потом, наблюдать ады и раи уже сейчас, вокруг и внутри себя. И если принято представлять потусторонний мир в образах здешнего: горят костры и раскаляются сковородки или льется лучезарный небесный свет, – то нельзя ли и, наоборот, представлять здешний мир в образах потустороннего? Сколько обителей мрака и света разбросано по планете! Может быть, страшный суд вершится уже сегодня, и Земля – место исполнения приговоров.
– В тезисах говорится, в частности, о том, что человек не принадлежит только миру природы. Мы уже немного говорили об этом. Означает ли это, что человек происходит из мира природы, но при этом его задачей является выход из этого мира? И как Вы думаете, почему мир природы изначально устроен Богом так сурово?
– Да, мне кажется, каждый, кто рождается человеком, как бы слышит голос: «на выход!». Из мира природы. Но и мир природы не так уж суров, в нем есть все, что нужно для счастья. «Счастлив тем, что целовал я женщин, / Мял цветы, валялся на траве» (С. Есенин). Ничто природное человеку не чуждо. Но природного ему недостаточно.
Есть антропный принцип, который широко обсуждается в науке в последние тридцать лет. Физический мир, вплоть до мельчайших констант, таких, например, как масса электрона или нейтрона, создан таким, чтобы сделать в нем возможным появление человека. Сдвиг на одну десятую процента в каком-то параметре – и ничего бы не получилось. Есть, есть этот intelligent design – разумный замысел в природе. Да и вообще красиво вокруг, соразмерно, и на всякую потребность есть способ ее утоления.
– Безусловно. Но я имела в виду прежде всего законы, которые предполагают, что выживаемость обеспечивают сила и способность приспосабливаться. Само деление мира животных на хищников и добычу – штука суровая. Есть документальный двухсерийный фильм, построенный по принципу зеркального отражения. Оператор фиксирует происходящее на африканском озере, где в мутной воде обитают крокодилы и куда на водопой приходят антилопы. В первой серии описаны мытарства несчастных антилоп, большинство которых погибает во время миграции к этому озеру, а добравшиеся до водопоя попадают в зубы свирепых крокодилов. А другая серия рассказывает о нелегкой судьбе уже крокодилов, которым тоже, как выясняется, ужасно тяжело приходится в этом пересыхающем озере, где выживает в лучшем случае только каждый десятый крокодил... В целом это наглядная иллюстрация того, что все живые существа в этом мире находятся в условиях, мягко говоря, сложных и ходят по краю гибели. И если мы прожили в природе достаточно длительное время и вынуждены были в ней выживать, то, понятно, что закон силы в нашем обществе по-прежнему действует и, возможно, ещё долго будет определяющим. В связи с этим возникает длинный ряд вопросов: почему Бог создал мир на основе законов силы и приспосабливаемости? Должны ли мы это каким-то образом сломать и преодолеть? Справляемся ли мы с этим? Не означает ли существующее устройство мира, что Бог не является воплощением и источником исключительно блага и добра?..
– Вообще-то Бога добрым никто и не называет. Добрым может быть скорее сказочный персонаж. Люди, созерцая несчастную жизнь антилоп с одной стороны, и крокодилов – с другой, проникаются сочувствием к тем и другим, хотят облегчить им жизнь, сделать так, чтобы и овцы были целы, и волки сыты. Отсюда собственно человеческое стремление к справедливости, даже в ущерб себе, ценой жертвы, неудобства. Это уже на выходе из природы, в духовно-творческое измерение.
Я не могу ответить на многие заданные Вами вопросы. Почему Бог создал мир таким, а не другим. Важнее не почему, а зачем. Ученики спрашивают Иисуса про слепорожденного: потому ли он был болен, что совершил грех, или его родители жили во грехе? Иисус отвечает: нет, не потому, а для того, чтобы его можно было исцелить (что и совершает). Упала башня в Иерусалиме, раздавила 18 человек. Значит ли это, что они были виновнее других? «Нет, – говорит Иисус ученикам, – но, если не раскаетесь, также погибнете». У событий нет моральных причин, но есть моральные следствия. Поэтому, кстати, когда некоторые деятели российской церкви возлагают вину за естественные катастрофы на их жертв, например, на японцев или гаитян, якобы наказанных за их грехи, – это антихристианская риторика.
Будда, как и Иисус, отказывался отвечать на такие метафизические вопросы о причинах зла и страдания, которые только уводят от энергии действия. Однажды к нему пришел монах с вопросами: бесконечна или конечна вселенная? тождественны ли душа и тело? живут ли святые после смерти? и т.п. Будда в ответ хранит молчание, которое называют «благородным», а потом поясняет своим ученикам: это вопросы такие же праздные, как если бы человек, раненный отравленной стрелой, сказал бы врачу: «не позволю вынуть стрелу, пока не узнаю, кто меня ранил, из какой он семьи, какой касты». Нам не дано знать причин зла и несправедливости, но они нам такими и представляются, чтобы мы знали, что с ними нужно делать: исправлять, лечить, помогать, участвовать.
Если же мы в первую очередь стараемся найти и наказать виновных, мы тем самым как бы снимаем с себя бремя ответственности. «Кто виноват?» – это попытка улизнуть от вопроса «что делать?» Вспоминается Иван Карамазов, который требует воздаяния для всех виновных в слезинке ребенка, а иначе он, Иван, отказывается принимать божий мир. Но сам он утер хоть одну слезу, кого-то утешил? Или он только застыл в трагикомической позе своего «неутоленного негодования»? А вот брат Алёша не спрашивает, кто прав, кто виноват, а вмешивается во всё происходящее на стороне слабых.
Вероятно, нам потому и не раскрыты многие причины зла и страданий, чтобы мы не перелагали на прошлое нашу ответственность за настоящее и будущее. Это тоже подсказка: знаешь, что делать, – вот и делай. Стрела времени летит вперед.
– Но если мы не знаем причин зла, как мы можем его устранять? И как определить, что нужно делать, если не знать, кто виноват?
– Причины, конечно, нужно исследовать, и убийц, насильников, воров нужно наказывать.Но стоит ли откладывать доброе дело из-за того, что мы не знаем изначальных причин зла? «Почему я должен быть хорошим, если одни твари пожирают других? Почему я должен быть на стороне добра, если сам Бог устроил мир так, что в нём много зла и насилия?» – это парализующие, обессиливающие вопросы. Это то, чем мышление отличается от умствования. Умствовать – это затруднять себе путь добра вопросами о происхождении зла.
Даже не зная, кто виноват, мы понимаем, что нужно делать. Вера подвигает делать то, что превыше знания. Поскольку не мы сами родили себя, мы не можем вполне объяснить себе даже самих себя, почему мы такие, а не другие. Но сам факт жизни есть императив, указание того, что нужно делать: умножать тот жизненный источник, из которого мы сами излиты, переливать его в других. Данность содержит в себе задание, которое не подлежит сомнению. Ничего не нужно выдумывать, никаких целей и смыслов, они уже даны, а значит, и предзаданы в самом факте нашего появления на свет.
Вышел из тьмы – выводи других.
Родился – рожай.
Живешь – оживляй.
Ешь – корми.
Видишь – помогай видеть.
Думаешь – пробуждай мысль.
Все глаголы своего существования преврати в переходные. Это этика превращения пассивов в активы, страдательного залога в действительный. Этика ответности и вместе с тем единственности, потому что каждый несет свою данность как задание себе. Действуй по образцу создавшего тебя.
– Существует ли прогресс в области этики?
– Сейчас пандемия. В Средние века, возможно, рассуждали бы так: вымрут эти старые люди – и не надо будет их кормить-поить, тратить на них ресурсы; у молодых людей появится больше возможностей, откроется дорога к будущему через завалы прошлого. Но сейчас всё-таки правительства заботятся о сохранении этих, казалось бы, не слишком нужных, в основном прожитых жизней. Это прогресс этики? Безусловно. Владимир Соловьев, чистейший, честнейший, добрейший из мыслителей XIX века, тем не менее, считал, что война нужна, оправданна, ведёт к прогрессу. Сейчас мало кто из даже самых больших троглодитов в политике отважится так заявить. И этот нравственный прогресс совершился всего за сто лет.

– Позвольте, пожалуйста, вернуться к вопросу о соотношении мира человеческого и мира природного. С одной стороны, мы, люди, отличаемся от животных тем, что у нас существует этика. Это наше преимущество. С другой стороны, животные обладают другим преимуществом: они не придумывают друг для друга пытки, не выделяют внутри своих популяций группы «врагов» с целью их уничтожения, не убивают потехи ради. А человек постоянно совершенствуется и упражняется в этих вещах. Где же мы находимся? Что мы за существа? И как Вы полагаете, это тёмное начало в нас тоже восходит к некоему источнику? Существует ли некий антимир, в который можно опрокинуться и который ощутимо даёт о себе знать?
– Чем больше возможностей для добра, тем больше возможностей для зла. Собственно, так и сказано: древо познания добра и зла. Добро и зло – взаимозависимые вещи, плоды искушения. На дереве жизни, с которого велено вкушать человеку, нет ни добра, ни зла. Мораль как таковая – продукт падшего мира. Смысл Книги Иова, на мой взгляд, как раз в том, что Бог прямо не отвечает на призывы Иова объяснить, чем он провинился перед Господом, за что постигли его эти наказания? Во всей долгой ответной речи Творца нет ни одного морального понятия: ни добра, ни зла, ни вины, ни наказания, ни праведных или грешных. Он говорит: посмотри на красоту и силу моих созданий, на чудеса творения. Море, звезды, заря, снег и град, облака, лев, павлин, конь, орел... Вот ответ Иову: призыв вернуться к дереву жизни, возвратиться в Эдем до грехопадения. Но поскольку мы находимся в мире, где уже есть добро и зло, то свобода, естественно, предполагает и свободный выбор между тем и другим. И, конечно, люди, не являясь уже частью природы, могут несравненно лучше животных упражняться во зле, потому что животные остались при дереве жизни, но именно в качестве животных. А человеку дано развиваться через раздвоение.
– Пример, который Вы привели, говорит о том, что люди, глядя на чью-то несчастливую судьбу, на чью-то преждевременную гибель, должны извлекать какие-то уроки и корректировать своё поведение. Нельзя ли из этого сделать вывод о том, что в глазах Бога жизни разных людей имеют разную же ценность и что есть люди, которых Бог использует как некое наглядное пособие или расходный материал? Взять ту же эпидемию чумы. Люди в Средние века интерпретировали её как гнев божий и пытались угадать, чем именно они навлекли на себя этот гнев. Соответственно, с этой точки зрения, получается, что умершие люди умерли в назидание тем, кто выжил. А те, кто выжили, должны были сделать какие-то выводы. И мы, разумеется, действительно должны извлекать выводы. Но тогда получается, что выжившие важнее тех, кто умерли. Бог, очевидно, пожертвовал одними ради других. Иногда складывается впечатление, что стихийные бедствия и прочие несчастья, происхождение которых нельзя возвести к человеческому фактору, возникают из-за того, что Бог, пытаясь донести до нас что-то, чего мы упорно не хотим понять, временно отключает порядок и включает хаос, на время самоустраняется, перестаёт играть упорядочивающую роль. И тогда мы сталкиваемся с землетрясениями, цунами, извержениями вулканов и прочим. Получается не точечный и не рассчитанный удар, а то, что называется «гори всё синим пламенем». И кажется, что жертвы просто попадают под горячую руку.
– Физик Фримэн Дайсон (Freeman Dyson) объясняет совокупность зол, катастроф, катаклизмов в нашей Вселенной тем, что жизнь не должна застывать в каком-то благополучном состоянии. Чтобы быть интересной, она должна включать в себя и эти события, нарушающие ее баланс. Дайсон развивает принцип «максимального разнообразия», согласно которому законы природы и начальные условия таковы, чтобы сделать Вселенную как можно более интересной. Как только жизнь становится скучной, уравновешенной, происходит нечто непредвиденное: кометы ударяются о землю, наступает новый ледниковый период, разыгрываются войны, изобретаются компьютеры...
Да, миллионы умирают, выживают немногие... Так ведь это же происходит повсеместно. Сколько человек могло бы родиться из одного семяизвержения одного мужчины? Сорок миллионов. А рождается обычно только один. Каждый может задать себе вопрос: почему такая чудовищная несправедливость? Почему я родился, а другие сперматозоиды – нет, не обрели жизнь? И на этой почве можно всю жизнь испытывать чувство вины и проклинать мироздание. А можно это воспринимать иначе: я должен всю энергию того зачатия, в результате которого я был произведён, а другие нет, воплотить в этом мире, поскольку за мной стоят миллионы нерождённых. Что-то есть в онтологии нашего мира, что благоприятствует отбору немногих. Тесны врата и узок путь, ведущий не только в жизнь вечную, но и в эту, земную. Моральный императив, который отсюда проистекает, состоит не в том, чтобы себя корить, винить – или тем более обвинять Творца в том, что он создал мир таким несовершенным, а в том, чтобы пользоваться каждой возможностью для совершенствования, которая зависит лично от тебя.
– Бедная вера базируется на традиции всех авраамических религий. Скажите, пожалуйста, фигура Христа какую роль играет в этих построениях? Какое место занимает, скажем так, главный герой христианства в системе, объединяющей идеи иудаизма, христианства и ислама?
– Мы уже говорили о том, что Бог – не только автор, но и участник этого трагического действа. Он пытается проложить нам путь к спасению, становясь одним из нас. Вообще, создав человека, Бог навлек на себя множество трагикомических напастей. Вообще во всякой трагедии есть и комедия. По Ветхому Завету видно, как Бог носится за всеми этими человечками, пытаясь их уговорить сделать то, другое, а они от него отбиваются. В библейском тексте заложена глубочайшая самоирония Творца. Ирония в том, что Он говорит одному, другому, третьему, а они не слушаются Его, разбегаются врассыпную или проваливают самое простое задание. И тогда у Него рождается гениальный ход: Он сам становится частью этого мира в качестве человека. Что при этом можно сделать? Нельзя просто так взять и волшебно всё переменить. Он жертвует собой и таким странным образом преображает мир изнутри. Эта закваска начинает бродить в человечестве. И мы живём всего лишь две тысячи лет после этого эксперимента и ещё не знаем, к чему он приведёт, как дальше пойдёт ход этого действа, этой высокой трагикомедии. Но быть к нему равнодушным, не участвовать в нём – это, наверное, не вполне по-человечески.
– И Ветхий, и Новый Завет заповедуют не только верить в Бога, но и любить его. Как одно следует из другого? Даже если признать бытие Бога, уверовать, что он есть, то почему мы должны любить его? Ведь не все, что существует, достойно любви. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь» (Мф. 22:37-40).
– Это возвращает нас к метафоре Творца как автора произведения. Когда долго всматриваешься в картину или вчитываешься в книгу, начинаешь воспринимать личность автора и вступать в духовные отношения с ним, в мысленный диалог. Если всматриваться в окружающий мир и понимать его как чье-то создание, то начинаешь чувствовать личность Творца, создавшего эти деревья и листья, эти волны и скалы, эти звезды, этих людей... наконец, тебя самого. Трудно передать общее ощущение от Творца всего – это как миллионы Шекспиров, Бетховенов, Микеланджело, Эйнштейнов, слитых в одну Личность: сверхсветлый ум, сверхмощная воля, непрерывное волнение сердца. Вслушиваешься в себя – и там, на самом дне, слышны все те же вулканические толчки, формирующие твою личность. Как можно не любить это сверхнапряжение жизни, которым пронизано все вокруг, от летящей птицы до поэтической метафоры? И все это обращено прямо к тебе: будь! Будь больше, выше, умнее, сочувственнее. Это не просто жизнь как явление природы, как биохимический процесс, – это сам Источник жизни, волящая, сверходаренная Личность, которая создает пространство внутренней жизни в нас, как композитор создает музыкальное пространство. Любить Бога – это как любить Бетховена, когда слушаешь его музыку, или любить Пушкина, когда читаешь его стихи: это вступать во внутренние отношения с личностью того, кто создал все это.
А то, что мир причиняет нам страдания, – не уменьшает ли любви к его творцу? Но ведь творческая личность тоже страдает: и когда превозмогает себя, пытаясь достичь невероятного, и когда терпит жизненные катастрофы. Во всех наших страданиях есть страдания и самого Творца, который продолжает творить с невероятным упорством этот мир, оказывающий ему сопротивление, как и всякий материал – автору. При этом Бог продирается и сквозь нашу тупость и предательство, и сквозь зверства материи и эволюции, которую он сам запустил, чтобы ум не был навязан материи извне, а вызрел в ней, как способ ее самоорганизации, как ум и совесть людей, берущих постепенно эволюцию под свой контроль. Бог страдает с нами – и мы сами причиняем ему страдания: в этом суть религии страдающего Бога, который приносит себя в жертву своим созданиям. Поэтому любовь к Богу – это не абстракция, она столь же конкретна, как любовь к другому человеку, только шире, полнее. Любимый вдохновляет: ты чувствуешь идущую от него энергию, которая передается тебе; ты переживаешь его страдания как свои; ты не хочешь причинять ему боль; ты делаешь усилия, чтобы быть вместе с ним, сотворить ему.
Влиятельный американский философ Томас Нагель, исповедуя свой атеизм, честно признает, что это не только следствие его рациональных убеждений, но и выбор его воли: «Я хочу, чтобы атеизм был истиной, и меня беспокоит тот факт, что некоторые из самых умных и хорошо информированных людей, которых я знаю, являются верующими. Дело не только в том, что я не верю в Бога и, естественно, надеюсь, что я прав в своей вере. По сути, я надеюсь, что Бога нет! Я не хочу, чтобы был Бог; Я не хочу, чтобы Вселенная была такой» («Последнее слово»[1]).
У Нагеля здесь тонкое различение. Оказывается, атеизм – это не только вера, что Бога нет, но и надежда, что Его нет, и желание, чтобы Его не было. В этом перевернутом зеркале хорошо видно, что вера в Бога тоже многосложна. Это не только вера в Него, но и надежда, что Он есть, и желание, чтобы Он был. Последнее можно назвать любовью. Таково триединое отношение к Богу. И чего недостает собственно вере, восполняется надеждой и любовью.
- Благодарю Вас за подробные ответы и вдохновляющую картину мира!
[1] Nagel, Thomas. The Last Word. Oxford University Press. 1997, Kindle Edition, pp. 130-131.
Первая публикация: Печорин, 22.4.2021